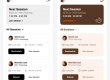В своей авторской колонке приглашенный редактор Design Mate Юлия Бычкова рассуждает о том, как на замену культуры пришла креативная экономика, искусства — арт, а национального самосознания — идентичность, и при чем тут излишняя увлеченность пиаром. Этим материалом мы открываем тему месяца «Что нам делать с культурой?».
 Юлия Бычкова управляющий партнер Бюро Никола-Ленивец, продюсер фестивалей «Архстояние» и «Архстояние Детское»
Юлия Бычкова управляющий партнер Бюро Никола-Ленивец, продюсер фестивалей «Архстояние» и «Архстояние Детское»
Как продюсер культурных проектов, я много думаю о той сфере, в которой работаю, о той тусовке, в которой вращаюсь, — в общем, о нашей культурной жизни. Жизнь эта вроде как бурлит. Лично я, по крайней мере, еле успеваю ходить на все вернисажи, на которые меня зовут (и это только в Москве!), и рассматривать все поступающие в арт-парк заявки от художников — многие хотят отметиться в Никола-Ленивце какой-нибудь инсталляцией, перформансом или чем-то еще.
Теперь взглянем, что происходит вокруг: круглых столов про искусство, архитектуру, кино и прочее проводится просто немереное количество. Отечественные эксперты изо всех углов рассуждают про смыслы и культурные коды. Тезис о том, сколь важно отыскать, нащупать, выявить, наконец, новую русскую идентичность, уже стал общим местом. Бюджеты выделяются, речи произносятся, всем есть на чем попиариться, есть о чем поговорить в кулуарах и альковах. Ну, и отлично, казалось бы. И все же я испытываю некоторое разочарование по поводу того, как все складывается.
От того, что мы постоянно говорим про смыслы и с упорством, достойным лучшего применения, исследуем культурные коды, наша культура сама по себе содержательнее не становится.
Точно так же демографическую проблему в России не решить лишь с помощью социальной рекламы, блокировки порно-сайтов и чтения молитв. Тут нужно что-то еще. И общество, и власть этого как будто не понимают. В противном случае стала бы последняя проводить «совещания, посвященные формированию национально ориентированной среды и созданию нового российского художественного стиля», словно развитие культуры — вопрос даже не политический, а бюрократический?
Генезис стиля — штука сложная, и вот так вот, на раз-два, по щелчку начальника, стиль не рождается. Как донести эту нехитрую истину до власти в условиях негласного бана (вполне объяснимого, замечу) на общественную дискуссию — вопрос вопросов. Впрочем, есть у меня смутное ощущение, что уже поздно что-либо до кого-либо доносить. Потому что, вообще-то, если вы не заметили, культуру у нас заместили креативной экономикой. Законы теперь пишутся в интересах этой самой экономики, а не культуры. Странно, что Министерство культуры до сих пор не сменило название на какой-нибудь «Минкрэк». В рамках той же логики, кстати, градостроительство у нас в определенный момент очень ловко заместили урбанистикой, искусство — артом (тут я немножко наступаю на горло собственной песне, но что поделаешь), национальное самосознание — идентичностью, научные исследования — «рисёрчами», генеральные планы — мастер-планами, и далее по списку. Поправка: заместили в инфополе, но не на законодательном уровне, слава Богу. Одна архитектура выстояла под натиском таинственных властителей нарратива, которые активно пытались переименовать ее в «дизайн». Не вполне понятно, каким образом ей это удалось.
Как поется в одной популярной песне: «В стране мультикультур закончилась культура». Вместо нее теперь креативная экономика.
Казалось бы, ну и что? Лексикон поменялся, стал более современным, страшно сказать — глобальным. Делов-то? Проблема в том, что наше общество хочет содержания, оно созрело для того, чтобы ему, наконец, предъявили некий образ будущего, потому что после распада СССР на той заветной стене в «тюрьме народов», где прежде красовалась картина, изображающая прекрасное коммунистическое завтра, появилась брешь. Но вместо образа будущего нам предъявили издевательскую табличку с надписью «Ждите», поверх которой — пустота. Про себя я назвала этот феномен суррогатной культурой: вроде все на месте — фильмы снимаются, картины рисуются, архитектура строится, эксперты заседают, статьи пишутся, но при этом происходящее как будто бы игнорирует реальность, то есть запросы и настроения общества, актуальную повестку, богатейшую историю нашей страны. Оно не отвечает ни на какие вопросы и, что еще печальнее, не ставит никаких вопросов.
Вернее как: сегодняшняя российская культура оформляет то, чего на самом деле не существует, что, собственно, и делает ее суррогатной.
Как мы пришли к тому, что я описываю (возможно, с излишним драматизмом)? Осторожно предположу, что все мы излишне увлеклись пиаром. Пиар ведь, если говорить начистоту, — это что такое? Это не что иное, как имитация чьей-то интеллектуальной, творческой, деловой состоятельности, создание «шума из ничего», в лучшем случае — инструмент поддержания интереса аудитории к чему-то действительно стоящему. Чем лучше пиар, тем профессиональнее имитация, и тем больше верят имитатору. Наверное, мы заигрались в имитацию культуры. Во всяком случае, бессодержательность наших потуг в творческой сфере становится все более пугающей, а кризис нашего национального самосознания — все более очевидным. Пора оставить пиар в прошлом и заняться содержанием.
На обложке фото из архива Архстояния. Автор Рустам Шагиморданов
Материал с сайта: https://design-mate.ru